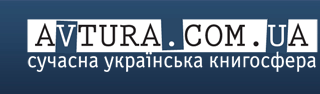|
28.11.2011
Автор рецензії: Арч Йонес
(джерело:
Альманах "Крылья: Взмах второй", 2007.)
СЕКУНДА ВЕЧНОСТИ
Стих Заславской – это ангел, соединенный с гарпией, гремучая смесь прекрасного и ужасного. Наверное, такое соединение противоположностей необходимо: без этого не может быть настоящего полета творчества.
Стих Заславской эпичен. Она говорит с современником, на его, современника, языке. Но в этом обращении к мигу – современности – мы слышим:
Рыцари, инквизиция,
Мадонна Сикстинская… И
знаем – это обращение к вечности. Это строки из поэмы Елены Заславской «За секунду до…».
Вчитываясь в стихи поэмы охватываешься ощущением неизбежности, фатума. Мне думается, что подобные ощущения ... [ Показати всю рецензію ]
навеивает поэма не только на меня – среднестатистического жителя крупного города.
Удивительна энергетика каждого стиха поэмы. Каждая строчка будто струна-нить рвёт тишину, освобождая вплетенные в неё образы. И звучат эти образы ярко, наполнено жизнью, словно музыка Александра Скрябина. Используя частые повторы, нагромождая образ на образе Заславская создаёт эффект смятения, переполоха чувств. Мы смутно разбираем – где ощущения и мысли героев поэмы, а где – самой Заславской. «Фантасмагория, как на картинах Босха…». Читая, впитывая в себя образы стихов, ты и сам поддаешься волшебности этой фантасмагории: будто ты сам со своими мыслями вплетаешься в струну-нить строчки. Уже сам читатель – часть поэтического узора стихотворения, сам звучит, а каждая строчка, каждый образ – будто слит с тобой. Ведь иначе как они могут звучать твоим голосом?
История о миге любви между террористом-смертником и его мишенью – одной из многих – проста и ныне банальна. Но о ней можно сказать так, как об этом говорят в кинофильмах или остросюжетных приключенческих книгах: бьюще на эффект. Но за этим эффектом мы не увидим ни любви, ни даже самих героев – настолько они будут заслонены зрелищностью. Однако поэма Заславской не об этой любви. Эта любовь – фон, на котором Заславская пишет своё эпическое послание современности и будущему:
Мне мир представлялся желтым,
а он оказался черным.
Им управляет Черт,
им управляет Нобель,
раздает свои премии
под топот солдатских сапог.
В этой современности нам преподносятся выхваченные из жизни герои нашего времени. Вот Она:
Я, среднестатистическая
девушка мегаполиса,
пирсинг,
tatoo, розовые волосы
и прочие прелести моды…
Но в этом наносном на нас глядят улыбающиеся глаза Джоконды:
но если всмотреться –
лицо моё,
как у Джоконды.
В подачке судьбы – встрече героев поэмы –
Моё сердце,
из солнечного света сотканное,
неопытное, глупое,
как цыпленок желтое,
пробив скорлупу,
потянулось к тебе
за секунду до…
И Он: романтик антиглобалистского воинства:
Я, словно славный идальго,
бросался на ветряных великанов…
Сжигаемый жгучей ненавистью, Он, «чудовище», влюбляется в свою случайно встретившуюся «красавицу» за секунду до взрыва. Образ героя романтизирован. Романтизация – не только во вплетении образа «славного идальго». Заславская даже одевает на лицо героя маску – очевидную нелепицу для террориста-смертника: ведь он же не банк пришел ограбить, а взорвать бомбу. На себе. Однако:
Я – пельмень,
начиненный взрывчаткой,
как мясом.
С обезумевшими очами
в прорези маски.
«Маска» как раз и «вписана» поэтессой для романтизации героя, подчеркивания его необыкновенности. Поэтому же и «глаза» заменены на «очи». Но романтизируя героя (ой! героя ли?), Заславская совершенно отходит от самого гнусного поступка – террористического акта, этого крика ненависти. Каким бы не был «славный идальго» славным, однако он совершает жуткое преступление – убийство ничем не повинных людей ради реализации исключительно своих амбиций, пускай и прикрытых громкими лозунгами антиглобалистского движения.
Насколько противовесны герои, настолько же они похожи. Общность их – в бессильной подвластности судьбе, обреченности на её произвол. Случайная встреча и – вспышка – как взрыв! –
Это так непохоже на смерть,
потому что это любо…
Подчиняясь детерминизированному миру: эпохе, человечеству, прогрессу – живут автономно «средние» люди. Кажется, в шелухе сегодняшнего дня их усредненность скрыла, нивелировала всё. Наивно считают себя властелинами своих судеб. Но
Случайно или намеренно,
мы, будто броуновские частицы,
в одном и том же месте
в одно и то же время
столкнулись…
Обрекающий себя на неизбежность («Я вынес себя за скобки. Я – труп!»), «славный идальго» не может себя остановить, остановить своё желание, так стремительно и неизбежно стремящееся осуществиться.
Новый Завет не актуален...
Как не может себя остановить «славный идальго», так не может себя остановить Джоконда с розовыми волосами: она такая же, как все – неизбежно стирает свою вечность.
В своем смысловом поле поэма «За секунду до…» – белая простыня, на которой зачинается «я» будущей личности (будущее) и одновременно – простыня, которой покрывают труп – оболочку без «я» (прошлое). Не зря единение героев в ЦЕЛОЕ происходит в момент их гибели.
В секунду уложена вечность. В сплетении прадавнего и современного – единение секунды, мига с вечностью. Не зря в поэме сделано акцентирование на смешении грани современного и прошлого: звучание Моцарта в мобильных телефонах; Пушкин на бигбордах; девушка мегаполиса с ликом Джоконды; террорист, словно Геракл, чистящий Авгиевы конюшни планеты…
В век постмодерна,
как и во времена пещерные,
мои часы отсчитывают секунды
в ином направлении…
Квинтэссенцией поэмы звучат слова, имеющие все шансы стать крылатыми:
Миры Америк, Азий и Европ
Одинаковы при взрыве бомб!
Поэма обилует повторами. Один из основных, как мне кажется, это варьирующая фраза «Я на дне твоего зрачка», будто бы бросающая нас в синий омут выцветших глаз-озер врубелевского Пана (цвет здесь, впрочем, не важен). В этом пристальном вглядывании – попытка разглядеть, прильнуть к источнику истины:
Я В ГЛАЗА ТВОИ ОКУНАЮСЬ
ЗА ИСТИНОЙ.
Мы уже знаем, что эта истина – любовь.
Позволю вернуться к своей ассоциации поэмы Заславской с живописью Врубеля. По силе передачи эмоционального впечатления мне кажутся они близкими: образы поэмы оставляют ощущение (почти визуальное) магического мазка Врубеля. Сильные, широкие, полные жизни, генерализированные и обобщенные, образы, соединяясь и сочетаясь, создают поэму-картину. Такая картина-поэма, как и её отдельные образы-мазки, запоминается, въедается в твой мозг, разъедая стереотипы и клише. В широких мазках угадывается вся мощь, вся сила поэтического таланта Елены Заславской. Однако, как и у Врубеля, рано или поздно выявится усталость: Демон обречен волнам горного потока.
АРЧ ЙОНЕС [ Згорнути рецензію ]
|
|
28.11.2011
Автор рецензії: Виталий Дорофеев
(джерело:
Альманах "Крылья: Взмах первый", 2006.)
По ту сторону инстинкта удовольствия Елены Заславской
Для жанра критической статьи в журналах и альманахах художественной литературы, в поэтических сборниках традиционно отведены довольно узкие тематические рамки: "Насколько / за что мы ценим творчество данного автора". Собственно аналитические элементы смотрятся в такой среде чужеродным телом.
Без достаточного основания мы не стали бы оспаривать традиции, разумность которых не обсуждается. Но недавно творчество одного из луганских поэтов выступило в неожиданном качестве – как материал доклада на заседании философского Монтеневского общества, ... [ Показати всю рецензію ]
и это начинание было оценено членами общества как весьма положительное и уместное. Основное внимание докладчик уделил особенностям восприятия философских и метакультурных категорий непрофессионалом, который по своему призванию постоянно манипулирует этими категориями, т.е. поэтом. Анализу были подвергнуты стихи Елены Заславской.
Почему именно этот автор привлек к себе такое внимание? Несомненно, это не случайно. Среди всего массива производимых на Луганщине слов именно стихотворно организованное творчество госпожи Заславской – одно из ближайших к тому, чтобы вырваться из области "дружеских посиделок", сермяжной правды и самиздата в область литературы вообще, той, перед которой ставят уже наименование не города, но нации.
И стихи этого автора давно заслуживают внимательного обсуждения. Даже неприлично, что философы здесь обошли литературоведов. Постараемся делом извиниться перед Еленой.
Всех интересующихся отсылаем к тексту доклада, мы не будем специально останавливаться на нем. Тема нашего исследования начинается там, где он заканчивается. Что в поэтическом тексте, кроме собственно эстетической стороны, служит предметом читательского интереса? Прежде всего – обобщенный и окрашенный эмоционально опыт взаимодействия с миром поэта, который пытается подняться в этом обобщении выше самого себя (когда это удается – стихи становятся поэзией). В философском докладе рассматривалась прагматическая сторона, т.е. что берется да чем становится. Нас же интересует сложная, зыбкая и малоисследованная сторона стиха, то, что можно назвать подсознанием стиха – та среда, в которой происходят упомянутые процессы.
Наше исследование неизбежно индивидуально: невозможно говорить о поэтическом подсознании вообще. Мы будем говорить только о стихах Елены Заславской, и только о стихах – сказанное нельзя распространить на ее личность.
*1
В творчестве Заславской можно выделить довольно отчетливые временные периоды, они частично представлены в сборнике "Инстинкт свободы" ("Склянка часу". –Канев, 2005). Использованный здесь материал взят из этой книги.
Более ранние стихотворения, объединенные издателем в сборнике под названием "Виолончель", представляют собой довольно классические по всем признакам произведения. Короткие по объему, эти стихотворения стали яркой визитной карточкой Заславской, их узнают даже те, кто никогда не читал – по слуху. Самодеятельные композиторы уже успели применить к ним нехитрую науку трех аккордов ля-минорной тональности. Но на сегодняшний день стихотворения вроде "про пальчик" ("Баловник") и "про ракушку" ("Perola Barocco"), как ни странно, дают искаженное представление о том поэте, которым стала Заславская путем сознательной эволюции.
Стихи из раздела "Виолончель" можно назвать этюдами на заданную самим автором тему. Каждый такой стих представляет собой известную форму, в которую поэт мед-лен-ными мазками вписывает развернутую метафору ("ангелический образ" по С. Есенину) – процесс не менее эротический, чем содержание стиха. Такая раскраска, или, вернее, боди-арт. При этом каждый этюд живет самостоятельно и может быть безболезненно изъят. В нашем разговоре мы будем мало их касаться.
Следующие по времени создания за "Виолончелью" циклы – "Части света" и "Сонеты о маркизе" – уже не издательские, а авторские, соединенные большим, чем сходство тематики. Заславская начинает склонятся в сторону крупных интегрированных произведений, что вскоре разрешится в создании поэм "Инстинкт свободы" и "За секунду до". Не оставляет Заславская и малые формы стиха, но и они едины на всех уровнях, от стилистического до идейного (в отличие от тематического "Виолончели"), что прекрасно видно на примере цикла "акТворенья".
Предисловие к сборнику, написанное К.Скоркиным, сразу утверждает нас в однозначном ощущении, которое неизбежно возникнет и после прочтения книги: автор –не бесполое существо с женским окончанием в фамилии, а женщина, которая преломление понятий и событий через призму женственности делает устойчивым фундаментом для восприятия мира и рассказа о нем. Героиня "Виолончели" нарциссически любуется своим телом и не ведает комплекса кастрации, "Акта Творенья" – неуемно плодородна, как земля, насмешливо и требовательно приглашает в себя самое что ни на есть враждебное, чтобы и его причастить собой и родить, "Инстинкта свободы" – зовет страну к себе на грудь, как любимого ребенка. Женственна! Да это не просто жизнь, это раблезианское буйство жизни! Можно ли утверждать обратное? И все же мы осмелимся.
Каждый стих нас обманывает, и иллюстративный материал, и предисловие Скоркина этому помогают. Если нам каждой строкой говорится о женственности, разве это не женственные стихи? И только ощущение чего-то не-мягкого и не-теплого, остающееся после прочтения, заставляет сомневаться. Посмотрим же не что говорится, а чем и как.
*2
Хотя с точки зрения структуралистских теорий текст нельзя разбивать на слова, слова не существуют отдельно, а только как цепочки, но, с некоторым допущением, именно слово – всплеск смысла, удар молоточком, от которого рождается эмоция. Сложноподчиненные линейные предложения могут передавать напряженное и даже рваное движение в романе – и плавное, последовательное рассуждение в монографии. Главное различие здесь создает даже не экспрессивная окраска слов, а их частеречная принадлежность. Признак жизни динамической – глагол, и статической, чувственной – прилагательное. Мир имен существительных опустошен, как может быть пуст и набитый под завязку склад с рядами полок – пока в нем не появится движение и чувство.
Простой количественный анализ стихов даст нам материал для размышления.
Первое стихотворение цикла "Части света", "Европа", 16 строк. Сочтем здесь части речи, обращая внимание лишь на полнозначимые, и опуская союзы, местоимения и пр. Составим таблицу.
Глагол 13 Наречие 10
Сущ. 25 Причастие, деепр. 1
Прилаг. 6 Числ. 1
Для первого "Сонета о маркизе", 14 строк:
Глагол 6 Наречие 4
Сущ. 22 Причастие, деепр. -
Прилаг. 7 Числ. -
И напоследок возьмем одну из поэм, "За секунду до…", 1-я главка (для обеих поэм картина почти идентична, поэтому сэкономим место):
Глагол 5 Наречие 2
Сущ. 17 Причастие, деепр. 2
Прилаг. 3 Числ. -
Мы принялись за подсчет не в качестве формального приема; к этому нас подтолкнуло именно ощущение чувственной опустошенности стиха. Результат лишь объяснил ощущение.
На 56 полнозначимых слов "Европы" – 25 имен существительных (45%), 13 глаголов и 10 наречий. Так как наречие можно отнести к глаголу, как образ действия, получаем 41% активной стороны. Образ, который возникает для описания этой картины – множество каких-то предметов, делающих что-то – проливной дождь. Капли падают.
Для "Сонета…" и поэм – другая картина: черно-белый фильм. Однообразная смена кадров. Каталог. Взгяд из застывшей точки пространства, из окошка, непрозрачного для звука. На 30 слов поэмы – 17 существительных, 3 прилагательных, 7 глаголов и наречий.
Значимость такого соотношения подтвердит сравнение. Возьмем классический образец. Начало блоковской "Незнакомки":
Глагол 7 Наречие 2
Сущ. 22 Причастие, деепр. 2
Прилаг. 11 Числ. -
Группа действия – 9, чувства – 13, предмета – 22. Это различие усугубится, если добавить анализ слов как членов предложения; во фразе "перья страуса склоненные" только 1 предмет и два признака; существительное "страуса" здесь – определение. У Заславской такой переход просто отсутствует.
У художника-импрессиониста стиха Заболоцкого предмет всегда проигрывает. В начале "Красной Баварии" идет живопись движения, и нас ведут глаголы: "оно, как золото, блестело, // потом садилось, тяжелело, // над ним пивной дымок вился…" Затем движение уступает место краскам: "…о чем она ни пела, // в бокале отливалось мелом".
Слово в прозе подчинено способу изложения. В повествовании доминирует глагол, прилагательное – в описании. Существительные здесь толпятся при перечислениях. В эпической фразе: "В белом плаще с кровавым подбоем…" 10 предметов, 7 определений и всего одно действие: вышел.
*3
Чуткая Заславская знает очень мало чувств. Так, цветовая гамма сборника от корки до корки, не считая красок обложки, аскетически проста.
"Если бы я была камикадзе… желтой и узкоглазой"
"…черные запекшиеся губы"
"Мир захлебнется… бурою юшкою кока-кольной"
"Мое сердце, как цыпленок, желтое"
И, наконец, откровенное признание: "мне мир представлялся желтым, а он оказался черным".
Если же сборник раскрыть и перевернуть, из него можно вытряхнуть еще несколько цветов.
"…солнце падало на песок, и осы облаком жаркоголосым…" – цветовая гамма, без сомнения, желтая. Может, чуть-чуть в черную полоску.
"Я… огоньком увенчанная свеча"
"Я, Антерктида – белый андрогин". Белый цвет (негатив черного?) стиху, конечно, известен, но здесь – это скорее внечуственный знак снега. Образ снега встречается в сборнике несколько раз.
"Я, …девушка мегаполиса, – розовые волосы". Яркое пятно цвета; только героине оно без зеркала не видно, и не она его выдумала: мода.
Странно, но даже классическая героиня "Виолончели" знала не больше цветов. Белый, желтый, красный.
Если расширить поиск, и взяться не только за цвета, а за все возможные ощущения – мы почти ничего не найдем. Ничто из показанного в стихах не передается через осязание, обоняние; мир словно запечатан, завернут в целлофановую пленку, гладкую, холодную, не пропускающую запаха. Судьбы здесь пересекаются быстро и грубо, здесь "живут взахлеб", но все это – характер действия, а не ощущения. Территория, на которой находятся герои – голубая, оранжевая – внечувственные, формальные характеристики Шершавый, больно, тепло, приятный, жалкий, нежащийся, весело – во всех формах чувств, рецепторных, эмоциональных, стоит прочерк. Тело героини – немое и онемевшее, молчаливое как снаружи, так и изнутри. Единственный живой участок на нем – губы. Они соленые, солонее устриц. Они ощущают губы другого: бешеные и грубые (успела ли что-либо почувствовать?). Не удивительно, что любимый так жизненно важен для героини. Это он воздействует на ее губы, давая ощущение. Он "красит их в пурпур" – сами по себе они бесцветны. Его поцелуй горит как орден – нечто важное, но чуждое, внешнее. Его действие часто остаются почти без воз-действия. Он изломал, избивал, испохабил, но героиня лишь отметила этот факт.
Что чувствует и делает героиня "на дне твоего зрачка"? Посмотрим. "Я – мотылек… породнился с иголкой" (умер). "Я – капля". "Я – свеча". Все перечисленные предметы неживые. Все, сделанное героиней, смог бы сделать любой камень.
"Мы прикоснемся к чуду", – обещает она. Что мы почувствуем?
*4
Итак, мы имеем предметы, не имеющие чувственных признаков. Немногие прилагательные исполняют при них служебную роль, определяют предмет: белый флаг – не цвет, а значение, знак сдачи; пещерные времена, поэтический треп, белокаменные палаты – такие же признаки предмета, как порядковые числительные.
Если обратить внимание на временные формы глаголов, окажется, что нет у них ни прошлого, ни будущего. Героиня "Виолончели" еще имела прошлое; она вспоминает; она была тогда и осталась сейчас, чтобы вспомнить. Все остальные существуют только здесь и сейчас, в жестких рамках экзистенциальных отношений.
"Ненависть – это (есть) микроб.
Он проникает… Он отравляет… Он разъедает…
(Это есть) фантасмагория".
Движения опустошено: ненависть "проникает" и "отравляет" так же, как волны катятся на берег. Неподвижное движение. И даже "вдох в плену моей диафрагмы // увяз…"
Кто знает лишь пассивное движение? У кого время сжато в точку? Кто не знает чувств, и смотрит на мир желтыми глазами? Кто – или что?
Жизнь – бесценна. Ты – мужчина. Ты – эпицентр смерти.
Тело мое – соты. Я – женщина. Моя яйцеклетка – эпицентр жизни.
Мужчина, Maskuline, Man – смерть, Mort. Женщина – жизнь.
Еще в ходе обсуждения на Монтеневском обществе один из присутствующих вышел и нарисовал на доске некоторую синусоиду, пояснив: это – волна. Стихотворения Заславской движутся волнообразно. Наплыв-спад, ровные строфы, разделенные цифрами. Основная характеристика волны – ее движение обманчиво: каждая точка, участвуя в движении волны, остается на своем месте. Волна идет, застывшее движение повторяется.
В поэзии Заславской большую роль играет число. Оно почти не участвует в тексте, но организует его. Заславская разделяет части стихотворения (в небольшом "Инстинкте свободы" дает аж двухуровневую нумерацию), пересчитывает материки, ведет отсчет ДО… Бегут считанные оставшиеся секунды; желание сосчитать их почти непреодолимо. Остановить время невозможно, но можно закольцевать его.
"Стремление вернуться к предыдущему состоянию свойственно всему живому", – говорил Фрейд в работе "По ту сторону принципа удовольствия", и поясняет: предыдущее состояние – смерть, жизнь косной материи. К предыдущему состоянию – максимальное, бесчисленное число раз. Влечение к смерти.
Мы уже входили в воды значений и символов; продолжим плыть по ним.
"Как истинная жительница Лесбоса / не отличает фаллоса от пениса, / так я, когда наедине с тобой, / не в силах отличить земли от неба". Это сопоставление можно понимать на двух уровнях. На одном – а кто из нас отличает фаллос от пениса, это одно и то же, и не притянута ли эта фраза для провокационного красного словца? На другом – разница, действительно, есть. Пенис – это орган. Фаллос – это символ. Этим понятиям симметрично соответствуют: небо и земля. При таком соотнесении выходит, что земля – нечто абстрактное, что можно лишь представить, небо же – конкретное и осязаемое. Мир оказывается перевернутым, и, похоже, не случайно.
"Части света" – ипостаси одной личности. На протяжении пяти первых частей она ведет повествование от женского лица, и лишь в последней части оказывается, что это был обман, ложная гендерная идентификация, как мы привыкли относиться к заре как девушке и к океану – как мужчине. Антарктида заявляет нам: я – андрогин, двуполое/бесполое. Во мне есть женская суть ("расцветают огненные маки"), но она глубоко внутри, и извлечь ее не представляется возможным.
В стихотворении "Эпицентр", там, где говорится о яйцеклетке-жизни, умалчивается об ее, яйцеклетки, вместилище. Ясно, что это вместилище "соткано из тех, кто был в нем", где глагол был указывает на окончательность процесса. Не единоразово побывал – а находился внутри, остался внутри. И когда андрогин-Антарктида говорит "мне нужен только ты!" – в этом слышится: КАЖДЫЙ.
В интерпретации глубинных архетипов сознания образы могилы и вагины выступают вместе. Погружение в черную бездну, чреватую перерождением-возрождением. Злое ругательство "Иди в п**!" – пожелание ритуальной смерти, поясняет В. Руднев.
В стихотворении "Венец творения" сжато описывается зачатие ("сложились, как игрушка Лего"), беременность ("словно парус, надуется… живот"), но ничего не говорится о рождении. Что стало с плодом? – ему на смену пришел "венец творения" – стих. Очевидно, в прямом смысле его автор был бесплоден, и беременность была истерической симуляцией, либо развернутой метафорой. Подмену рождения новой жизни творением строки здесь нельзя понимать в постмодернистском смысле (на глобальную неверность такого понимания указывает и К.Скоркин), поскольку речь ведь идет не об обычной строке, а поэтической – той, которая оканчивается рифмой, связывает стих, и наряду с гиперсемантизацией числа может считаться симптомом невроза навязчивых состояний.
О повторяемости, переходящей в обсессию, Заславская говорит еще не раз. "Мое желание… то же. Разве не глупо – на одни и те же грабли?", и там же, но много ниже, в завершение поэмы: "Бойся своих желаний". В "Эпицентре": "Ты был спокоен… но на подушке – прядь моих волос… словно отпечаток ракушки, жившей миллион лет назад". Героиня не отбрасывает себя в прошлое, вычеркивая из настоящего; она говорит, что прошлого – нет, оно – сейчас; все те же грабли. "Не избежать закона бумеранга" ("Части света").
В женственной поэзии Заславской невозможно обходить вниманием вопросы пола. Отношение к полу лежало в центре мировоззрения Василия Розанова: "Здесь – пропасть, уходящая в антипод бытия" – писал он. Знаки этой пропасти разбросаны повсюду, и в некотором сочетании позволяют ясно ощутить ее присутствие.
*5
Великолепны стихи Заславской. Они показывают, как подавляемое влечение к смерти отравляет жизнь изнутри.
Произведение мало зависит от автора. Стихотворения, будучи завершенными, перестают взаимодействовать с автором, но продолжают – друг с другом, образуя новое единство. Практически безрезультатно реконструировать личность автора по стихам. В сравнении с этим разумным кажется изучение поэтической личности, не существующей в материальном мире.
Известна мысль Л.Толстого о художественном сцеплении смыслов в произведении. Известно, что это сцепление содержит в себе некий подтекст; возможно, это – целая система подтекстов, в которой содержится новое, значимое знание, которое не имеет своим источником сумму знаний автора.
Конечно, Елена Заславская наслаждается прикосновениями и вкусом мартини, она видит и зеленый и синий цвета, она не считает зачарованно столбы по дороге домой. Она не считает, что мир – это желтая обездвиженная, обессмысленная пустота. Но стихи, которым она дала жизнь, считают по-другому.
Виталий Дорофеев,
поселок L Славяносербского уезда. [ Згорнути рецензію ]
|