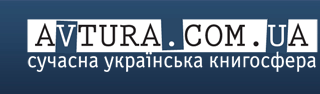|
21.03.2012
Рецензія на книжку:
О.Апальков. Нравы города Ка : роман
Символика инфернального мира
в повести А.Апалькова «Нравы города Ка».
Рассказчик, от лица которого идёт повествование в повести А.Апалькова «Нравы города Ка», не единожды заявляет, что Ка – «город мёртвых» (1.39), что «Он умирает, каждый день становится полным некрополем» (1.74), да и вообще представляет собой в смысле основных его достопримечательностей, пантеон-некрополь, куда «известные люди, самой судьбой ведомые, приезжали <> умирать» (1.8).
Жители Ка всеми своими корнями и помыслами уходят в прошлое и даже будущее намереваются построить за счёт эксплуатации минувшего, – «пантеона-некрополя», если сделать его туристическим центром. По улицам города гуляет разруха, упадок, покинутость, и немногие его учреждения, как, например, больница, выживают за счёт гуманитарной помощи жителей немецкого города-побратима Фи.
А.Апальков в повести даёт яркую картину города-»огарка», однако нас интересует не прямое описание и называние автором запущенности и бедности Ка, а создаваемая им особая художественная реальность, благодаря эстетическому воздействию которой у читателя возникает чувство, что он соприкоснулся с чем-то потусторонним, с некоей тихой преисподней, ибо, если бы было иначе, повесть представляла бы собой цепь публицистических очерков или зарисовок, хотя и о вымышленном, но очень похожем на где-то существующий населённом пункте.
Качества «мертвенности» пропитывают как сам род деятельности персонажей, так и смысловую ауру их поступков. У мёртвых есть только их минувшее, поэтому вся жизнь жителей Ка экстраполирована в канувшее или, если говорить более точно, в несуществующее и несуществовавшие мифологические времена, которые не имеют ничего общего с действительной историей. Ореол архаичности, «забвенности» создают даже имена персонажей, как-то Алексий, Арчибальд, Горгоний, Календарий, Светозара, Епифания, Авдий и т.п.
В мифологическом контексте повести жители города мёртвых Ка выступают как имевшие место в славянских мифологических представлениях «неблагополучные мертвецы», то есть некоторое время довольствуются «успокоением», а, если делать отсылку к мифологическим сюжетам, «выходят из могил» и пытаются на месте своего погребения, однако на этом, а не на том свете, решать свои прежние, волновавшие их до ухода в потусторонний мир, дела. В итоге деяния их получаются нескладными, гротескными, абсурдными или смешными, с тем лишь отличием от действий мифологических неблагополучных мертвецов, что окружающим живым усопшие по содержанию повести не несут физической опасности. В Ка «Громадный зал усыпальницы сделался ристалищем теоретических страстей, апогей коих <> явился в виде засмоктанноволосого тощего оратора из метрополии. Он провозгласил дребезжащим и слабым голосом Тиберия, что Иисус Христос был всё-таки укром. Ибо на кресте он прошептал: «Ой, леле», что по-лемкивски обозначало: «Ой, папа». Так резюмировал докладчик, издавая всхлипывающие призывы перенести прах приёмного сына Иосифа в Ка…» (1.13-14).
Поступки и помыслы персонажей, которых можно причислить к символическим мертвецам, характеризуются определённой непоследовательностью, механичностью, противоречивостью и алогичностью. Ярким примером могут послужить взаимоотношения Авдия и Светозары. Авдий бесконечно любит Светозару, однако на дне рождения Речкина вступает в половую связь в общественном туалете с совершенно незнакомой ему девицей. Свой разговор со Светозарой он перемежает мычанием, – в символическом контексте мертвец не умеет говорить или неправильно артикулирует звуки. В туалете над всем нагаженным и несмытым он девице «гнул шею и делал то, что она хотела» (1.90). Здесь также нужно учитывать, что в мифологиях многих народов отхожее место и испражнения символизируют мертвенное или вход в преисподнюю.
В главе «Попечитель» попечитель изъясняется «издавая нечленораздельные звуки, точно он скрытый пришелец из космоса» (1.23). У одной из дам, предлагающей Алексию объединить творческую интеллигенцию города Ка, «было лицо певицы из прошлого, оно меняло цвет» (1.16). Полностью безликими существами предстают представители советских органов безопасности, следящие за Арчибальдом Апайкиным, работающим переводчиком в немецкой группе специалистов, приехавших в Ка. Явившись к ним на их вызов, Арчибальд словно сталкивается с клонами, – «У каждого по газете в размахнутых руках. На каждом чернее ночи костюмы-тройки и галстуки с узлами в кулак. А пот так и катится по Арчибальдову лбу.
– Звали?
– Не звали, а пригласили, – один из костюмированных встал, – я полковник икс-игрек»(1.25).
Абсолютным «мертвецом» в описании Горгония, делящегося своими мыслями с Алексием, предстаёт один из жителей Ка. Автор замечает: «Тут не живут. <> … тут мёртвых празднуют. Тут даже кровь скудеет. Я видел. Мужик высыпал мусор. И вылезла из кучи крыса. И укусила его. Вытекла вода…» (1.73).
Своеобразным представителем потустороннего мира выступает и друг Алексия Календарий Брюс, ибо для него бег времени застыл, о чём и говорит рассказчик повести: «Мы с Календарием ровесники. Но он моложе. Ибо живёт всегда в мае 1986 года. Только дни уже считает на тысячи. Месяцы же и год недвижимы» (1.36).
Поскольку город Ка обитель «неблагополучных мертвецов», в символическом контексте повести его жители не могут покинуть место своего вечного успокоения, хотя, естественно, это не характерно для всех персонажей буквально, иначе повесть выглядела бы мистической или сказочной. Важно, как тонко и мастерски, описывая вполне реальные события, А.Апальков строит сюжет таким образом, что при внимательном чтении в контексте обнажается мифологический срез бытия Ка и его жителей. В художественной реальности повести Черчиль и Степанюра, отправляясь отдыхать в Трускавец, в итоге так и не доезжают до конечного пункта своего путешествия и оказываются перед въездом в город Ка. В данной ситуации Трускавец с его лечебной минеральной водой – источник живой воды, но два друга якобы по вполне объективным причинам – один напился самогонки, а другой слепо выполнил его пьяное желание, оказываются, направляясь в Западную Украину, в месте своего символического успокоения. В этом и состоит талант писателя, – описывая реальное, внести в него такую канву образов, которая восходила бы к архетипическим представлениям и уже только благодаря своей архетипической насыщенности универсальными психологическими доминантами, присущими коллективному бессознательному всех людей, представителями какой бы культуры они не являлись, приносит читателям эстетическое наслаждение и чувство прикосновения к тайне.
Из-за невозможности мёртвым что-либо совершить реальное в мире живых, тем более насытить жизнью кого-то, Ка живёт за счёт гуманитарной помощи немцев, и львиная доля гуманитарной помощи приходится на больницы. По этой же причине необходимая техника для открытия в Ка пекарни, оказывается непригодной. В реальности и печь, и автобус, на котором Булычёв намеревается привезти в Ка из Фи печь, просто старые, проржавелые и неисправные. Но в символическом смысле Булычёв, как мертвец, не может из страны благоденствия доставить к месту своего и общего захоронения нечто, что служит для удовлетворения потребностей живых. Это, в итоге, символическая печь и символический автобус. Интересно, что в другом случае, когда Булычёв после неудачной попытки открыть в Ка пекарню снова побывал в Германии и вёз оттуда секондхендовские (вновь символ негодности) машины для продажи их на просторах СНГ, его и таких же предпринимателей, как он, долго, в течение нескольких дней, держали на польской таможне, требуя заплатить штраф за неправильную парковку автомобилей. Во-первых, в данном случае, мы видим вплетённый в повествование о якобы реальных событиях завуалированный архетипический сюжет о пересечении Стикса либо другой мифологической реки, являющейся естественной границей между царством живых и мёртвых. Во-вторых, в царство мёртвых пропускают только мертвецов, и Булычёв, чтобы выпросить разрешение пересечь границу, нивелирует, убивает себя как личность в глазах польского таможенника. Другими словами, в символическом контексте повести, Булычёв делает себя «покойником». Об этом он после рассказывает Алексию: «Обвязываю щеку грязным полотенцем, кладу в рот последний шмат с проростью, вымазываю руки и морду сажей из выхлопной трубы. Ползу к нему. На коленях. По грязи. А все смотрят. Сотни глаз. А я ползу к нему, к пану. Прошу и плачу, и бью земные поклоны» (1.70).
Авдий перекликается с персонажем из древнегреческой мифологии Авгием не только именем, но и событиями из своей жизни. В повести Авдий, бесконечно отданный Светозаре, совокупляется со случайной девицей в туалете прямо над несмытым дерьмом. По содержанию древнегреческого мифа царь Авгий владел «подаренными ему отцом бесчисленными стадами скота, стойла которого не очищались 30 лет» (2.15). Авгию помогает очистить стойла от коровьего дерьма Геракл, Авдий же ещё больше загаживает и себя (в нравственном смысле), и публичное отхожее место, то есть на примере действий персонажа из повести мы имеем дело с так называемым переворачиванием образа с ног на голову, что и вводит в текст комический и одновременно вызывающий грусть эффект. Тема «дерьма и отхожего места», как продуктов распада и, в символическом смысле, атрибутов загробного мира прослеживается и в главе «Песня, моя песня», где говорится, что, очищая городскую фекальню, «утопла дежурная бригада. С вечера напилися. К свободе готовились. Уснули у насосов. А тут президент едет. Приказали открыть главный клапан коллектора. Прямо в реку. Тысячи кубометров испражнений. А над фекальней саркофаг соорудили. За ночь. Из глины и того же дерьма. Зато флагов-то, флагов…» (1.102).
Переворачивание мифологического сюжета для привнесения в текст элементов гротексности прослеживаются и в сцене знакомства Авдия со Светозарой. Он подглядывал за нею, купающейся в речке, и овладел прямо в ивняках, по сути, изнасиловал. Авдий здесь уподобляется Пану, который преследовал одну из красавиц нимф, домогаясь её. Но нимфа, добежав до реки и видя, что Пан настигает её, не желая иметь телесную близость с козлоногим существом, просит богов превратить её в тростник, что они и делают. После съедаемый похотью Пан сделал из тростника флейту пана, на которой начал играть грустные мелодии. Авдий же настигает свою «нимфу» и однажды, совокупляясь с незнакомой девицей в туалете, согнув её лицом к грязному унитазу, символически воспроизводит мелодию похоти стонами девицы, которые резонируют в отверстиях и трубах канализационного стока,– «тростнике» города Ка, его флейты».
Отдельного разговора и анализа требует язык «Нравов города Ка». Короткие, лаконичные предложения словно отстреливают, если можно привести такое сравнение, художественные образы в самое яблочко. В одном из своих интервью И.Бродский заметил, что литература ХХІст., имеется ввиду высокохудожественная, обязательно станет лаконичной: за историю человечества написано огромное количество текстов, поэтому текст, который будет претендовать на то, чтобы его заметили и прочитали, обязательно должен быть, касательно количества слов, сжатым. Это не означает, что цепь образов в таком тексте сократится, скорее наоборот, образы и символы в подобном тексте приобретают многозначность и универсальную глубину. Кто внимательно читал «Нравы города Ка», тот заметил, что оппозиция «живые-мёртвые» – не единственный образный пласт повести. Отдельного исследования требуют ещё несколько пластов художественной реальности, которые внесены в повесть в виде развёрнутых в образный ряд бинарных оппозиций, как то Запад – Восток (западная цивилизация – постсоветская культурная среда), настоящее – прошлое (ностальгия жителей Ка по гипотетическому мангазейскому праву, когда прошлое выступает более живым, нежели настоящее).
По замечанию того же И.Бродского – настоящая поэзия – это предельно сжатый художественный текст. Поскольку повесть А.Апалькова – лаконична, она неминуемо во многих своих местах переходит в поэзию. Достаточно привести несколько примеров: «Доцветающая дама гасла глазами. И покусывала свои сиреневой помадой подкрашенные губы. А под куполом города заря плакала» (1.95); «… только с утра залили дыры и выбоины на широком асфальтовом полотне. Чёрные кляксы гудрона прыгали по ней, как заплаты на одеянии скомороха» (1.85); «Глазами он держал меня словно в кулаке» (1.75).
В бинарной оппозиции «Запад – Восток» примечателен образ Епифании, таящий глубокий символический смысл. Рассказчик повести говорит, что Епифании приходилось в жизни несладко, что она подобна плодородной земле, а руки её – виноградным лозам. Можно предположить, что А.Апальков намеренно или интуитивно показал Епифанию олицетворением родины, восходящему к древнеславянскому мифологическому персонажу Мать – Сыра Земля. Но для жителей Ка, показанных символическими мертвецами, Епифания умерла, – уехала навечно в Германию, выйдя замуж за немца. Иными словами «Мать – Сыра Земля» подалась на запад, ибо настоящая жизнь в повести протекает на территории западной цивилизации, и, возможно, автор повести таким образом показал, куда всем нам, жителям страны, которую пересекает Борисфен, следует двигаться в смысле политических и цивилизационных приобретений.
Литература
1.Апальков А. Нравы города Ка, – «Склянка Часу», 1998.
2.Мифологический словарь. Москва, 1990.
Николай Караменов
(Джерело:
Журнал "Склянка Часу*Zeitglas"№31)
|