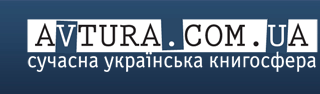|
25.03.2017
Рецензія на книжку:
О.Апальков, Проценко Микола, Товберг Олександр. журнал "Склянка Часу*Zeitglas", № 76 : літературно-мистецький журнал "Склянка Часу*Zeitglas"
(Переклад:
Апальков Олександр, Хомутина Хельга)
Владимир Ерёменко
ЧТО ИСПОВЕДУЕМ?
Авторам 76-й "Склянки Часу"
Без увертюры не обойтись.
О друзьях буду говорить обстоятельно и комплиментарно, об остальных – как получится. Впрочем, за взятку могу спеть осанну кому угодно. Или хотя бы за магарыч. Не взыщите. Мы живем ведь в нищей, кумовской и коррумпированной зоне.
Те из неупомянутых, кто чувствует себя на высоте, наслаждайтесь. Нечего страдать и сомневающимся. Ибо всё впереди. В свое время, вступая на скользкую стезю литературы, я отдавал себе отчет, что не умею писать хороших рассказов. Сейчас я не умею писать плохих рассказов. Между первым состоянием и вторым прошло полвека. После первых двадцати лет моих литературных забав я стал профессиональным писателем, не опубликовав ни строчки. Почему? Я жаждал влезть только в центральные журналы, полагая, что путь туда пролегает через ясность мысли, простоту, точность слова, прозрачность, музыкальность. И совершенствовал себя в этом направлении. Но печатных площадей центральных журналов не хватало даже на членов, на 10 тысяч членов Союза писателей СССР, а я был не член, я был посторонним. К тому же, в совейские времена – это я понял годам к тридцати – успеха можно было достичь только двумя способами – либо неистово услужать власти, либо неистово диссиденствовать. Я же по своей наивности, упорно следовал пушкинскому предписанию: "Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум…".
Если читатель, раскрыв книгу или журнал, после первых же строчек швыряет "литературу" под кровать, сопровождая это деяние нецензурными выражениями, автор означенной "литературы" не может отвертеться никакими доводами профессоров от изящной словесности о высоких художественных достоинствах его текста. Текст обязан увлекать без кнута. Иначе он нужен только автору. Тексту полагается быть интересным для читателя. Интересным – разбудить, удивить, рассмешить, вышибить слезу. И читабельным – поить читателя прозрачной живой водой, а не мутной или, еще хуже, мертвой.
Труд, вложенный литератором в свои писания, не должен мозолить глаза читателю. Вряд ли я буду оригинальным, однако скажу, что чем больше трудов души и ума вложено в текст, тем труд менее заметен, а текст читабельнее, живее. Вспомните формулу Успеха по Эйнштейну.
Оригинальность? Нет проблем. Каждый из нас – уникум. И для того, чтобы быть оригинальным в литературе, требуется опять же простая (гениальная) вещь – писать исключительно из себя.
А собственный стиль? Еще проще. Его, как в конечном счете я выяснил, не нужно искать. Он является сам. Двадцать-тридцать лет систематических литературных экзерсисов, и ты обречен не только на собственный стиль, но и на приятные изменения – по Анатолю Франсу – твоей физиономии.
В чем главная опасность? По дороге на олимп пишущий останавливается (бронзовеет) на уровне первых публикаций. Не спеши публиковаться – говорили мне в свое время добрые люди. А я считал их злыми. А они были добрыми.
Итак, авторы 76-й "Склянки".
Оксана Стомина "Любовь прифронтовая" (стихи).
Простая рифма. Не холодная версификация. Есть душа. Есть мысль. Есть отклик в моей душе.
Ганна Ручай. "Моно но аваре" (проза).
Ганна – погоня за красивостью. Отдельно стоящие или плывущие пейзажи. Опусы, фрагменты, похожие на припевы.
Красивость очень похожа на красоту, но диаметрально противоположна.
Опус № 1. Опус № 2, 3… На четвертом рефрене я уже читаю текст, принуждая себя. Мысли? Одну я все же нашел – одну, в 41-м фрагменте.
Не понял также, зачем именовать текст иностранцем – "Моно но аваре", что в переводе "сходнознавця" означает: "Грустное очарование вещей" или по Ганне – "Чарівний смуток швидкоплинності". Почему бы Ганне не назвать свой текст именно так. Без манер. Меня могут сейчас же схватить за язык, оттого что название одного из моих романов – Gimagimis. Но мне легко оправдаться. Во-первых, это – имя яхты, которое не переводится. Во-вторых, это слово, несуществующее в словарах, несет секретную нагрузку. Оно упоминается в романе дважды. Первым – как название. И последним – раскрывающим собственный секрет.
Вячеслав Пасенюк. "Поэзия и проза Дикого поля".
Пасенюк мне друг, и потому бесплатно подарю ему существенную часть моей жизни, – ведь я предупреждал прочих.
Бомба заложена уже в названии. Верю и надеюсь, что поэзия и проза Дикого поля не ограничивается Пасенюком. Хотя "нет Бога, кроме Непознаваемого, и Пасенюк пророк Его".
С уже отмеченным мною ранее упорством Пасенюк рифмует прозу. Как видно считает это своей визитной карточкой, особым шиком. Но рифма в прозе – моветон. Как правило, рифмой в прозе скрывают отсутствие мысли.
После первых рифмованных строчек, ошеломив ими читателя, Пасенюк разделяет свою "поэзию" и свою "прозу". Стихи загружает привычной мне тарабарщиной, с тяжкими пластами словесной руды, где там и сям всплывают проклятия в адрес Лугандонии и лу-гандонов, местных и пришлых. В прозаических же абзацах Пасенюк дарит читателю мысль, не замыленную рифмой.
Да, в прозе Пасенюка "мысль" просматривается отчетливо. В предыдущем абзаце я уже намекнул, "какая" мысль.
Пасенюк не говорит, но бает. О Свободе! О Достоинстве! Об Украине! И, кроме того, ухитряется среди словесных кружев протащить её, мысль, единственную на все 12 страниц. Вот она: "Что касается меня, то далеко на северо-востоке, в кичливом белокаменном граде я (заодно со многими друзьями, сородичами, земляками, знакомыми и неведомыми соотечественниками) заочно осужден, приговорен, обречен дожить до точки в лугандонской мертвецкой". С продолжением на следующей странице: "Как сто лет тому, московские площади заполняют громилы, черносотенцы, ратоборцы совка и ватника. Мракобесие в колорадских тонах".
Пасенюк не фильтрует базар.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что Лугандония оказалась жертвой большой войны. Для тех, кто трезов, ясно, что речь не о войне между Украиной и Россией, между колорадами и укропами. Война – не на жизнь, а на смерть – между Россией и Западом. Россия вздумала перечить Америке, усомниться в её исключительности и, что важнее, в её праве душить мир фальшивой баксовой зеленью. Произнеся слова "Запад" и "Америка", уточняю. Запад – это США и порабощенная ею Европа. И еще уточняю. США – такое же порабощенное и обездоленное пространство, как и Европа. Порабощенное глобальным Каганатом – мировой ростовщической "элитой", которая (сотня кланов) владеет половиной земных богатств.
Понимая это, надо бы не проклинать "лугандонов", не натравливать на них "укропов", а вспомнить ВДРУГ, что и "колорады", и "укропы" – в недавнем прошлом граждане той самой Украины, о которой с таким пафосом печется Пасенюк. "Колорады" и "укропы" убивают друг друга, потому что Каганат их уже стравил, с целью братоубийства. И этой цели как раз и услужает Пасенюк. Напомню пасенюкам старательно забытое, но незабываемое. Не Московия начала бомбить Лугандонию. Дал приказ бомбить Славянск и начал это ЧЕРНОЕ дело некто Кровавый пастор, исполнявший обязанности Президента Украины.
Удел Поэта: взывать к братству. Пасенюк же клокочет безумно культивируемой в наших пенатах ненавистью. Усовещивать (именно так) его в том, что Поэту не пристало накачивать эфир ненавистью? Безнадежно. Так что же – Пасенюк не Поэт? Версификатор, работающий по найму? Наверняка Пасенюк осерчает на меня за эти намеки и будет прав, поскольку местные урядники и верховные ему не платят. Но ведь есть зарплата опосредованная, косвенная, – войти в пул придворных "поэтов", мечущих молнии в лу-гандонов "искренне!".
Любопытно, как держал бы себя Пасенюк, приди в Украину другая власть?
В огороде бузина, а в Киеве дядька. На стр. 19 ни к селу, вроде бы, ни к городу Пасенюк дает две строфы из Маяковского.
Нам, грязным, что может казаться привольнее –
сплошною ванною туча, и вы в ней.
В холодных, прозрачнейших, пахнущих молнией
купаетесь в душах душистейших ливней.
А может быть, это в жизни будет,
на что же иначе, когда не на это,
поэтов каких-то придумали люди,
или я в насмешку назван поэтом?
Но Пасенюк не так прост. Как тут же выясняется, Маяковский не случаен.
"Многие из нас, – намекает Пасенюк, – могли бы под сим текстом поставить свою подпись".
"Многие", но не Пасенюк. Он-то, само собою, назван поэтом не в насмешку. Кстати, кем назван? В народе поэтами называют людей, которые лихо рифмуют. Пасенюк рифмует лихо. По этой причине ему приходится тащить в стих столько рифмо-мусора, что чувство, если даже оно в стихе предполагалось, беспомощно тонет. По мнению самого Пасенюка "не выстраивается кавардак, чехарда не сложится никак".
Чехов как-то сказал о Леониде Андрееве: "Прочитаю две страницы – надо два часа гулять на свежем воздухе". Я сделал чрезвычайное усилие – прочитал 12 страниц Пасенюка. В промежутках пришлось выходить на прогулку. Спасибо за рецепт, понятно, Чехову. Спасибо, между прочим, и Пасенюку. Я себя не обидел – без эссе Пасенюка не дышал бы шесть часов свежим воздухом. Да и его, думаю, не оскорбил – как никак, уравнял с Леонидом Андреевым. Хотя, что ж Андреев? Почитайте. Мне не удалось врубиться. Мертвая вода.
И еще один важный момент касательно предпочтений Пасенюка. Я считаю себя наследником киевского князя Святослава, который тыщу с лишним лет назад разгромил Хазарский Каганат, похоронил рекетирскую державу с иудейской элитой во главе. Сегодня и здесь хазарский Каганат восстал из пепла. Не Хазарский уже – Украинский. Новая Хазария. Филиал Каганата глобального.
Я не хочу, чтобы моя Родина была колонией. Ни Московской, ни маккейновской. Белокаменная – зло? Не буду дико возражать. Но зло и нынешний Украинский Каганат. И это ЗЛО, конечно же, ужаснее. А выбирают – меньшее из зол.
На той же 19-й странице я пошатнулся от очередного удара: "Логофобия – словобоязнь. Интемперия – безудержная словоохотливость. Значит, наша задача: как-то исхитриться и проползти между интемперией и логофобией". Пасенюк поставил нам Задачу! Нет уж, это его задача. Но и что же? Тут я в очередной раз вышел подышать свежим воздухом и когда вернулся к чтиву, обнаружил, что Пасенюк традиционно мечет ассоциативное словоблудие. Не прополз, однако, между интемперией и логофобией. Так он устроен. Поистине интемперия. Или на русском – словесный понос. Эти литературные испражнения пахнут тяжко, что им, испражнениям, и свойственно. Соприкоснувшись с ними, я в итоге тщательно вымыл руки.
Несколько раньше (до Лугандонии) Пасенюк провозглашал кончину литературы, кончину слов. Чуть ли не запрещал ковать чего-то словесного. Но не себе. Прочим. Сам же ковал и кует с интенсивностью, достойной лучшего, как говорится, применения.
Открою тайну полишинеля. Пасенюк не любит слова. Пасенюк ненавидит слово. И потому его литература беспросветна. Соответствует ли эта беспросветность жизненным реалиям нынешним? Конечно. Но в таком случае нам нужно всем-всем-всем (а не только пасенюковой Лугандонии и Московии) покончить с собой. И в этом тоже есть резон. Я согласен с Пасенюком. В моей книге "Восхождение в Бездну", которую Пасенюк называл черным гробом, я говорю, что человечество находится на нисходящей ветви своего существования, уже загнивает и вряд ли доживет до конца XXI века, и потому ближайшие поколения могут избавиться от мучительной агонии всеобщей гуманной эвтаназией. Кстати, согласен и с "черным гробом". Потому что мы все (вся популяция) живем в гробу от рождения. Но – опять же кстати – мой "черный гроб" полон жизни. И там, в моей книге, я всё же уповаю (с отчаяния, само собою) на спасение Земли. Ведь еще живы мои дети. Я надеюсь на милосердие Бога, Который образумит нас.
Мне жаль Пасенюка. Бьется в паутине, которую сам соткал. Плачет, рыдает и ненавидит. И не может поступать иначе. Такова его природа. Любопытны слова Толстого, Льва, касательно тех, кто не может поступать иначе. Толстой, отрекшийся от Церкви, в ответе Святейшему Синоду сказал о "святых отцах" следующее:
"Ужасно то, что люди эти делают такое ужасное зло, которое не уравновешивается и тысячной долей получаемых ими от того выгод. Они поступают, как разбойник, который убивает целую семью, чтобы унести ста¬рую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно отдали бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе. То же и с религиозными лжецами. Можно бы согласиться в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе".
Если Пасенюку ненавистен Лев Толстой, и он сам, Пасенюк, исповедует христианство, я подкину ему 44-й пункт Нагорной проповеди Христа: "А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Но версификаторы, работающие в одной упряжке со СМРАДом, этого никогда не исповедовали.
Валерия Шахворостова. "Иногда" (проза).
Вероятно, замысел космический. Предложил бы Валерии черкнуть что-нибудь еще, не на два абзаца (с тающим Иисусом), а о чем-либо земном. И попроще. Попроще! Ну, почему нужно напоминать святую истину, что гениальность – в простоте?!
Ингвар Ант. "Потім" (проза).
Суть выясняется только к занавесу. Мужчина в больнице, в коме. Он же отец некой девушки. Неясно: уйдет тот, что в коме, или выживет. Но на пяти страницах он блуждает в своем подсознании после авиакатастрофы. То есть, имеется вид оттуда. Но вот беда, вид оттуда не предлагает никаких открытий. Только несчетно повторы: "…темрява…", "…блукаючі вогники…", "…темрява…", "…а потім темрява…", "…а потім знову темрява…"
Тягостное ощущение чужого бессилия.
Евгенія Артеменко "Memento Mori" (проза).
Вроде бы мерцает свет, но вижу его как бы сквозь треснувшие темные очки. Евгения! Выкинь за борт понты и ссылки на псаломы. Скажи обиходными словами, чего надо?
Любов Матузок. "Навіжена і шопінг" (проза).
Когда художник не может (не умеет, не способен) нарисовать коробку спичек или корову, он норовит ошеломить читателя черным супрематическим квадратом – то есть, дать по мозгам. Это, пожалуй, Любови отчасти удалось. Но ведь может Любовь, может и способна!
Вперто йдемо до мети крізь віків дні і ночі –
методів маємо вдосталь з прийомами різними,
світ пізнаємо щомиті! А він з нас одвіку регоче
і прокидається кожного ранку новим і непізнаним (разрядка моя, В.Е.).
Николай Проценко. "Дети" (проза).
Что-то вроде отчета о житии. Объемно. Детально. Однако подобное уже писано-переписано.
В двенадцатитомнике Ивана Бунина уйма слов. Но ни одного лишнего. Здесь, у Николая, можно убрать половину словес, и не только ничего не пропадет, но станет легче, всем. 28 страниц жизнеописания. И – при этом – продолжение следует.
Тревожно.
Александр Товберг. "Цианистый калий" (стихи).
Традиционно – ни о чем. Но в рифму. Возможно, из Товберга вышел бы поэтический Шагал.
Читать? Или Товбергу по барабану, будут ли читать? В этом его сходство с Иосифом Бродским. И в этом же его "величие". Бродский открыто заявлял, что ему наплевать на читателя. Нежился в своей словесной трухе и, однако, зачем-то размножал себя, любимого. Но, если плевать на читателя, зачем публиковать-то? Достаточно ведь одного экземпляра гениального творения – для себя.
Анастасия Сычева. "Будем жить" (проза).
Текст хорош как дневниковая пропись для дальнейшей обработки и основательных сокращений. Чехов еще когда сказал: "Умение писать – умение сокращать".
Владимир Комисарук. "Про довір'я" (проза).
Спасибо, Вова. Мыслящий тростник. По Некрасову: словам тесно – мыслям просторно. Просто. Ясно. Трогательно.
Ангелина Бондар. "Нуль в квадраті" (проза).
Последний отрывок. То, что сделала "вона", сделать бы всем нам, одновременно.
Александр Витолин. "Жити по новому" (проза).
Достаточно точно и не слишком длинно. Читабельно.
Владимир Савчук. "Сізіфи" (проза).
Сюжет туманно-фантастический. Не тривиальный.
Перспективна и символична последняя строчка: "Земля загоювала шрами, завдані людьми".
С Владимиром Савчуком было бы интересно встретиться и "перетереть".
Виталина Витченко. "Світло софіта" (проза).
Витченко не видит, что делают её герои, и, соответственно, не вижу я. Как ночью в комнате без света. Хотя – "світло софіта".
Александр Волков. "Вося "Бум-Бум" (проза).
Прозой называть грешно. Маячат в тумане "монументальные бармены", "леди-вумен". "Вося сидел бронзовый, как кумачовое полотно".
А я всё ждал хотя бы приличной порнографии. Но нет. Иван Бунин сказал бы о такой "литературе": откровенное свинство.
Марек Торецкий. "На нерусских путях" (проза).
С порога раздражает обилие эпиграфов, навязчиво указующих на энциклопедичность автора. Начало собственно текста, привязанное к Есенину, рождает сочувствие, но лишь на минуту. Далее везде размышлизмы, подобные размышлизмам Пасенюка. Присутствует и Лугандон (у Пасенюка – Лугандония). Мне почудилась общность, единодушие. "Узнаю брата Васю". Неужто Пасенюк? Или учитель и ученик? Или иная порочная связь? На эти подозрения наводят вкладыши в текст, назойливые, инородные, лишние, "свидетельствующие" о кипящих мозгах автора, но нарушающие уже оговоренную формулу Чехова: "Умение писать – умение сокращать". И формулу третьего Толстого: "Писатель возможен только в трех ипостасях одновременно – мыслителя, художника и критика собственного сочинения. Причем, критик должен быть выше мыслителя и художника".
И, разумеется, трагические завывания. Если вычленить из четырехстраничного текста Торецкого акценты, получим слезоточивый речитатив: "сквозь тяжелую дремоту пробился старческий всхлипывающий голос… не мой ли это внутренний голос – предельно старческий, всхлипывающий… мой старый товарищ, всхлипывающий, причитающий в могилевской ночи… ибо ни я, ни кто-либо иной не знаем, что нынче вечером взбредет в башку кремлевскому чекисту с рыбьими глазами…"
Можно мечтать четвертовать "кремлевского чекиста", но за дело, а не за рыбьи глаза. Любопытно, какие глаза у Торецкого? Может быть, рачьи? Или крысьи? Но ни поэт, ни прозаик не будут определять достоинства человека по внешним признакам. Квазимодо был урод. Но весьма душевная особь.
В Торецком вижу старика, вещающего о будущем "в тоске нечеловечьей", с угрюмой надеждой сжить со света москалей.
Как будут в продолжение столетия вымирать русские? Торецкий считает и даже доказывает, что, мол, скоропостижно. Может быть, и так. Если не вымрут параллельно все люди Земли. И я повторил бы для Торецкого (Пасенюка), – мои комментарии касательно князя Святослава и касательно украинского филиала Каганата, и касательно Льва Толстого, и касательно Нагорной проповеди Христа.
Вернусь, однако, к Лугандону Торецкого (Пасенюка). Предполагается мерзкая окраска слова "гандон". Но что, если взглянуть на "гандон" с нестандартной позиции. Считается оскорбительным прислонять это слово к определенному человеку. Но почему? Что есть гандон? Этот предмет красоты защищает от венерических болезней. И, что не менее важно сейчас (когда нас, сосущих кровь из Шара, 8 миллиардов!), – от перебора в размножении. Негативный оттенок этого слова вложен в него изначально. Спрашиваю еще раз: почему? В раннем детстве я познакомился с настенно-сортирной литературой и живописью, с гнусными поэмами "об этом", с грязными чертежами огромных органов детозачинания и деторождения. Позже, повзрослев, я задался таким же вопросом: почему?! В моем романе "Восхождение в Бездну" я предложил читателям ответ по этому пункту. Так что же есть гандон? Защитник. А Лугандония?...
В конце своего прозаического отрывка Торецкий дает четыре строфы стиха. Угадываю уши Пасенюка. Но всего ведь четыре строфы! Вместо несчетно-удушающего количества их на двенадцати страницах реального Пасенюка.
Меня обнадеживает пропись в скобках под заголовком эссе Торецкого: "третий прощальный текст". Нет, я не настаиваю на скорой кончине автора. Да здравствует всхлипывающий старец. Но без текстов. Тем более, что он сам от них жестоко устал.
Ерёменко Владимир
(Джерело:
facebook)
|